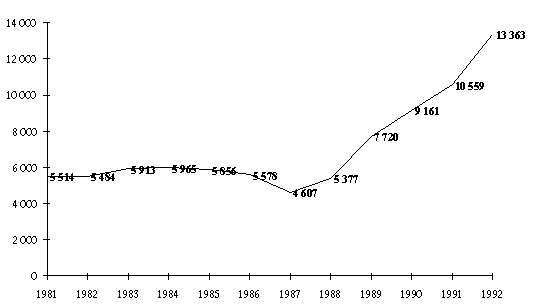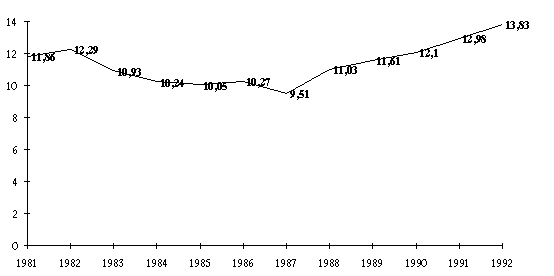Г л а в а III
Глава III
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
В ряду острейших проблем нашего времени особое место занимает борьба с организованной преступностью. Неутешительная статистика последних лет, тревожные сводки МВД, криминальная хроника средств массовой информации однозначно свидетельствуют о том, что общество столкнулось с крайне опасным явлением, представляющим серьезную угрозу основам его существования. Оказавшись в фокусе всеобщего внимания, организованная преступность стала предметом
научных исследований и дискуссий специалистов, темой обсуждения законодателей, журналистов, общественности.Анализ следственно-судебной практики и оперативных материалов МВД и КГБ уже давно свидетельствовал о явно неблагополучном положении в деле борьбы с преступностью, которая все чаще стала выходить за рамки традиционных форм и сфер деятельности, приобретать черты межрегиональной и межотраслевой консолидации. Нередко уголовные элементы пытаются (и небезуспешно) вовлекать в свою орбиту служащих государственного аппарата. Получая все более широкий размах, этот процесс фактически вышел из-под контроля правоохранительных органов.
В декабре 1989 г. в повестку дня высшего законодательного органа бывшего СССР был внесен вопрос об усилении борьбы с организованной преступностью. Впервые за всю историю советской власти официально признавалось существование такого весьма опасного явления, как организованная преступность. Была предпринята попытка законодательно сформулировать первоочередные задачи, направленные на противодействие этому криминальному процессу. Фактически именно с данного момента следует вести отсчет летописи борьбы с организованной преступностью.
Справедливости ради необходимо заметить, что не мы первые столкнулись с этой проблемой. Мировое сообщество давно обеспокоено масштабами организованной преступности, которая не признает государственных границ, языковых различий и обладает многими сходными чертами в различных государствах. Не случайно на УП Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями была высказана серьезная озабоченность "многочисленными свидетельствами роста организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков, во многих странах и связанным с нею огромным социальным и экономическим ущербом". Было отмечено также, что "организованная преступность все шире выходит за рамки национальных границ, часто маскируется под внешне законную деловую деятельность и что бороться с ней чрезвычайно трудно" [2, с.91].
Восьмой Конгресс ООН исследовал возможности и пути дальнейшего укрепления международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью и принял "Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней" [3, с. 194–198]. Во многих государствах уже давно разработаны и действуют собственные общенациональные программы борьбы с этим социальным злом и принято соответствующее данным целям уголовное и иное законодательство.
В чем же суть и опасность организованной преступности? Несмотря на множество исследований в этой области единого определения данного феномена наука и практика до сих пор не выработали. Существует большое разнообразие подходов и точек зрения, каждое из которых по-своему верно отражает специфические черты и особенности рассматриваемой проблемы. Не претендуя на
особое мнение по данному вопросу, хотелось бы высказать ряд собственных суждений. Организованную преступность нельзя рассматривать в отрыве от обычной, традиционной. Всякие попытки представить ее в виде самостоятельного и независимого криминального образования методологически неверны. Организованной преступность становится на определенной стадии своего развития, приобретая качественно иные черты, совокупность которых и дает нам основания характеризовать ее подобным образом.Под организованной преступностью нельзя понимать деятельность отдельно взятых групп, пусть даже хорошо сплоченных и технически оснащенных, слаженно действующих, имеющих жесткую структуру и коррумпированные связи. Организованная преступность – это прежде всего криминальное явление общественно-политического характера, имеющее тенденцию к саморазвитию и самовоспроизводству, способное к социальной мимикрии и адаптации к неблагоприятным для него условиям. Ее характеристики выходят за рамки собственно самих уголовно наказуемых деяний, совершаемых организованными группами, что свидетельствует о появлении принципиально нового феномена, бытие которого нуждается в адекватном научном осмыслении.
Сказанное, разумеется, не исчерпывает всего многообразия сложных аспектов, относящихся к рассматриваемому вопросу, однако позволяет наметить главный методологический вектор нашего исследования.
Ранее мы уже отмечали интернациональный характер организованной преступности. Вместе с тем она имеет определенную специфику, обусловленную типом государственного устройства, экономическим укладом жизни, национальными особенностями и иными факторами. К этому следует добавить конкретно-исторические условия, на фоне которых развивается данное явление.
Если говорить об отличительных чертах нашей доморощенной мафии, то ее различные проявления максимально адаптированы к специфике государственно-общественного устройства в целом и структуре хозяйственных отношений в частности. Иными словами, организованная преступность паразитирует на недостатках социальной системы, умело использует их в своих целях и в известном смысле представляет собой постоянно осуществляемый процесс приспособления противозаконных форм жизнедеятельности к особенностям функционирования этой системы.
Так, несколько последних лет характеризуются появлением новых видов противоправной предприимчивости, резкой активизацией уголовного мира и заметным усилением его влияния практически на все сферы общественной жизни. Достаточно сказать, что за годы перестройки преступность в ряде республик бывшего СССР выросла в 2
раза [4].Причины подобного всплеска криминального поведения лежат на поверхности. Давно замечено, что в периоды бурных общественных потрясений, внутриполитической нестабильности и коренных перемен происходит особенно ощутимый рост всевозможных социальных отклонений, в том числе и преступности. Безусловно, глубокая социально-экономическая реформа, проводимая в нашей стране, явилась своего рода катализатором многих негативных явлений. На фоне сложнейших геополитических процессов, приведших к распаду СССР, разрыву внутригосударственных и внешнеэкономических связей, межнациональным и межэтническим столкновениям, параличу власти, резкому снижению уровня жизни народа, небывалому росту социальной напряженности, преступность получила мощный импульс для укрепления
своих позиций и дальнейшей экспансии.Особенно серьезная угроза общественной безопасности со стороны организованной преступности выражается в ее коррумпированных связях в различных государственных ведомствах, в том числе и в правоохранительных органах. Наличие там "своих" людей делает преступников трудноуязвимыми для возмездия и тем самым еще более усиливает опасность их противоправной деятельности.
Природа коррупции в сфере государственного управления достаточно хорошо изучена зарубежными специалистами. Исследования этого отрицательного явления проводятся и в нашей стране. Согласно общепринятому мнению, коррупция выражается в "злоупотреблении субъектами управления своими властными полномочиями путем их использования в личных (в широком смысле – индивидуальных и групповых, материальных и иных) целях [5, с.13]. Таким образом, термин "злоупотребление" указывает на более широкий круг действий должностных лиц, чем уголовно наказуемое поведение. К таким действиям, в частности, можно отнести непотизм (оказание покровительства на основе личных связей) и иные запрещенные или неодобряемые действия с целью получения незаслуженных преимуществ для себя лично либо для других лиц.
В то же время связь между коррупцией и организованной преступностью – самая прямая. С большой долей уверенности можно сказать, что коррумпированные чиновники и криминальные элементы нуждаются друг в друге и охотно устанавливают между собой долговременные противоправные отношения для удовлетворения взаимовыгодных корыстных интересов. Не случайно
на II Съезде народных депутатов СССР академик А. Д. Сахаров предлагал внести в повестку дня наряду с обсуждением проблемы организованной преступности и вопрос о коррупции, считая их неотделимыми. Нередко взаимопроникновение этих явлений настолько глубоко, что есть все основания говорить о включении коррумпированных государственных служащих в структуру организованной преступности. В таких случаях цели преступных формирований становятся и целями продажных функционеров.В настоящее время в ряде стран, входящих в СНГ, приняты соответствующие указы, предусматривающие комплекс мер по борьбе с коррупцией в системе государственной службы. О широкой распространенности этого криминально-бюрократического порока свидетельствует тот факт, что в отдельных регионах (по данным социологических опросов) в систему коррумпированных связей вовлечено до 60% работников аппарата управления [6].
Все чаще щупальца уголовно-коррумпированного "спрута" проникают и в структуру военных ведомств. Заметно участились случаи незаконного сбыта на сторону больших партий оружия и боевой техники. Достоянием гласности стали факты существования целой сети армейско-биржевых дельцов, занимающихся подпольным экспортом ядерных материалов. Серьезную угрозу общественной безопасности и стабильности политической жизни представляют попытки организованных преступников внедриться в институты власти, подкупить и поставить себе на службу депутатов различных уровней. К сожалению, такие усилия нередко достигают цели. Все это оправдывает мрачный прогноз некоторых криминологов об усилении тенденции политизации преступности.
Следующей крайне опасной чертой организованной преступности является ее высокая профессионализация. С одной стороны, это занятие криминальной деятельностью на постоянной основе, в виде промысла, с другой стороны, известная специализация в зависимости от способа и источника получения незаконного дохода. В этой связи хотелось бы вкратце остановиться на разграничении понятий "профессиональная" и "организованная" преступность.
Думается, что непреодолимой границы между этими явлениями не существует. Отличия между ними весьма условны, релятивны и в большей степени актуальны в гносеологическом плане. Однако самостоятельное существование этих терминов требует (во избежание возможной путаницы) их смыслового разграничения. Представляется, что профессионализм является имманентным свойством организованной преступности, ее неотъемлемой чертой. Эффективность любой деятельности, в том числе и преступной, предполагает высокую профессионализацию и определенную специализацию незаконного ремесла. Кроме того, для членов уголовных формирований немаловажны и интересы собственной безопасности. Занятие противоправным промыслом на профессиональной основе, с использованием криминально-теоретических знаний (включая приемы и методы деятельности спецслужб), уголовно практических навыков и разнообразных технических средств значительно усложняет борьбу с наиболее опасными преступлениями и их организованными формами.
Таким образом, организованная преступность представляет собой более высокий уровень криминогенности, нежели традиционно понимаемая профессиональная преступность. Разумеется, и последней присущи многие черты организованности, прочих атрибутов мафиозных структур, однако в целом степень их выраженности недостаточна для отнесения профессиональных групп к организованно-коррумпированной преступности.
Говоря о специализации, мы имеем в виду основные направления уголовно наказуемой деятельности, то есть сферы влияния, в которых организованные сообщества захватили доминирующее положение. К ним прежде всего относятся рэкет, азартные игры, контрабанда, компьютерный бизнес, торговля наркотиками и оружием, проституция и сутенерство, порнобизнес, торговля антиквариатом, произведениями искусства и т.д. Существует и определенное разделение сфер преступного бизнеса в зависимости от территориально-национальных признаков уголовных формирований. Так, азербайджанская община специализируется на наркотиках, грузинская – на квартирных кражах, армянская – на мошенничестве, дагестанская – на разбойных нападениях, чеченская – на рэкете и угонах автомобилей [7].
Одним из наиболее характерных признаков организованной преступности является ее тесная связь с теневой экономикой. Последняя служит мощным источником жизнеобеспечения мафиозных структур, своеобразным средством перераспределения в их пользу национального дохода. Положение усугубляется тем, что бывший СССР, по оценкам зарубежных специалистов, входил в число двадцати стран мира с наиболее развитой теневой экономикой [8]. События последнего времени не изменили экономическую ситуацию к лучшему. Более того, многие негативные процессы заметно усилились. Этому в немалой степени способствовали разрыв единого экономического пространства, просчеты в финансовой политике, усиление инфляционных процессов,
разрушение кредитно-денежной системы, отсутствие эффективного рыночного законодательства (в том числе налогового) и другие причины. Согласно выводам второго съезда Межрегионального биржевого союза практически вся торговля, торгово-посредническая и частично производственная деятельность переместились в сектор теневой экономики и черного рынка [9].Теневая экономика привлекает лидеров организованной преступности не только относительно быстрым способом получения сверхдоходов [10], но и возможностью "очищения" преступных капиталов, с тем чтобы впоследствии выгодно вложить эти средства в высокорентабельные сферы официальной экономики. При этом решается двуединая задача: закрепление позиций в деловом мире и повышение своего социального статуса в обществе.
Широкие возможности для организованных объединений открылись в связи с демонополизацией внешнеэкономической деятельности. Прямые экономические связи между отечественными предприятиями и иностранными фирмами максимально используются в корыстных целях. В условиях
правового вакуума и неповоротливости государственных структур данное направление криминальной деятельности приобрело особенно широкий размах.Существенный интерес представляет организованная преступность с точки зрения ее структуры. За последние годы, благодаря усилиям отдельных ученых и целых авторских коллективов, занимающихся данной проблемой, выдвинуто множество концепций, по-разному объясняющих тайный механизм действия преступных сообществ [11]. Нам более предпочтительным представляется мнение, согласно которому "организованная преступность дифференцируется прежде всего по критерию ее специализации на определенных видах незаконной деятельности... Вид организованной преступности определяется видом тех преступлений, которые составляют смысл существования группировки" [12, с.53].
В то же время можно выделить наиболее характерные уровни и подразделения большинства организованных форм уголовных проявлений. В самом общем виде их можно обозначить как "руководящее ядро", "управленческий аппарат" и "рядовые исполнители". Каждый участник преступной организации занимает строго определенное положение в ее иерархии, что, впрочем, не исключает всевозможные "кадровые перестановки" и "продвижения по службе". Руководство из единого центра предполагает наличие жесткой дисциплины среди всех членов уголовных формирований и беспрекословное подчинение приказам и распоряжениям, поступающим сверху.
Интересы самосохранения преступных групп объективно вынуждают их иметь своеобразные аналоги служб безопасности (разведку, контрразведку, штат телохранителей, группы прикрытия). Для выполнения разовых поручений могут привлекаться в качестве консультантов специалисты различного профиля.
Как уже отмечалось, коррумпированные связи широко используются в различных ведомствах. При этом должностные лица не всегда могут быть осведомлены об истинных масштабах деятельности тех, кому они оказывают свои противоправные услуги. Наконец, обязательным атрибутом деятельности криминальных сообществ является "черная касса", формируемая в основном за счет средств, добытых нечестным путем, а также отчислений от прибыли предпринимательских структур, контролируемых данными формированиями. Большая часть этих средств предназначена для материальной поддержки осужденных и членов их семей, а также подкупа должностных лиц, включая представителей правоохранительных органов.
Таковы основные признаки и черты исследуемого криминального феномена. Суммируя сказанное, можно сделать принципиально важный вывод методологического свойства о том, что организованную преступность следует рассматривать в двух гносеологических ракурсах. С одной стороны, как сложное негативное социально-правовое явление, как новое качество уголовно наказуемой деятельности. С другой стороны, как один из ее структурных показателей (в данном случае разновидности групповой преступности), наряду с криминальной деятельностью несовершеннолетних, рецидивом и другими видами. Такое понимание объекта исследования в широком и узком смысле позволит избежать терминологической путаницы, сделает научные поиски более целенаправленными и продуктивными.
Итак, в первом значении организованная преступность – это возникающее на определенной стадии общественного развития качественно новое состояние уголовно наказуемой деятельности, характеризующееся консолидацией криминального мира (слиянием общеуголовной и корыстно-хозяйственной преступности, монополизацией источников получения дохода при одновременном разделе сфер влияния, установлением тесных межрегиональных связей), глубоким проникновением посредством коррупции в государственные структуры для использования их в своих целях, а также активным вмешательством в политическую и экономическую жизнь общества.
Второе значение данного термина непосредственно связано с понятием криминальных сообществ как субъектов организованной преступности. Криминальное сообщество – это устойчивое, жесткоструктурированное объединение лиц (либо отдельных групп), согласованно действующих в соответствии с заранее распределенными между собой ролями и функциями в рамках единого целостного образования и общей для всех уголовно наказуемой деятельности.
Таким образом, под организованной преступностью в узком смысле следует понимать уголовно наказуемую деятельность различного типа криминальных сообществ (антигосударственных организаций, бандитских формирований, преступных группировок в местах лишения свободы, организованных групп), то есть совокупность совершаемых ими преступлений на определенной территории в определенный период времени.
В соответствии с указанными значениями организованной преступности необходимо строить работу по противодействию ее проявлениям. При этом можно выделить два основных направления. Первое должно включать в себя комплекс мер государственного характера, направленных на устранение причин организованной преступности, ограничение ее масштабов и нейтрализацию негативных последствий. Второе направление должно ставить своей целью борьбу с деятельностью криминальных формирований, включая своевременное предотвращение, пресечение и раскрытие конкретных уголовно наказуемых деяний, совершаемых членами преступных сообществ.
Динамика числа организованных форм криминальной деятельности тесно связана с динамикой групповой преступности, но имеет свои особенности. Отсутствие единого подхода к понятию "организованная преступность" порождает немалые трудности в налаживании достоверного учета противоправных деяний, относящихся к данной категории. На сегодняшний день при составлении статистической отчетности за основу берется количество преступлений, имеющих такой квалифицирующий признак, как совершение их организованной группой. При этом другие составы, лишенные указанного признака, могут быть произвольно отнесены либо к групповой, либо к организованной преступности. Нет полной ясности и относительно определения наличия коррумпированных связей у разоблаченных группировок. Скажем, всегда ли правомерно относить их к формам организованной преступности на том лишь основании, что установлен единичный факт дачи взятки какому-либо должностному лицу? Эти и другие вопросы требуют своего скорейшего разрешения
.Ну, а пока мы вынуждены черпать сведения из официальной статистики, памятуя о ее известной условности и приблизительности. Так, по данным правоохранительных органов, групповая преступность в республиках бывшего СССР в 1990 г. продолжала расти. Ее удельный вес в структуре всех уголовно наказуемых деяний достиг 19,3%, то есть фактически каждое пятое из них являлось групповым; 2,5% составляли преступления, совершенные организованными группами [13, с.6].
В ходе оперативно-следственных мероприятий было разоблачено 1,6 тыс. организованных групп, что на 25,3% больше, чем в 1989 г. (1,3 тыс.). В 1990 г. ими было совершено 128 убийств, 63 тяжкие телесные повреждения, 24 изнасилования, 931 грабеж и разбойное нападение, 624 вымогательства, 143 хищения (в том числе
в крупных и особо крупных размерах – 75), 60 фактов взяточничества и т.д. Свыше 530 группировок имели межрегиональные и 56 – коррумпированные связи [14, с. 54–56].Разумеется, приведенные цифры далеко не в полной мере отражали масштабы исследуемого явления. Для более реальной картины необходимо сделать существенную поправку на латентность, что способно дать многократное увеличение данных по отдельным видам уголовно наказуемых деяний.
Проблема организованной преступности весьма актуальна и для Беларуси. По сведениям МВД, на начало 1992 г. в Беларуси действовало почти 100 организованных криминальных групп, с которыми были связаны около 150 "авторитетов" уголовного мира. Завершен раздел сфер влияния по городам, созданы "общаки" для финансирования деятельности преступных групп, проводятся воровские сходки. В 1991 г. организованными преступными группами совершено почти в 10 раз больше преступлений, чем в 1990 г., в том числе вдвое больше умышленных убийств, в 7 раз – краж государственного или общественного имущества, в 35 раз – краж личного имущества граждан. Значительно расширилась "география" криминальных действий, чаще применялись огнестрельное оружие и технические средства. Более чем в 15 раз возросла сумма материального ущерба, причиненного организованными преступными группами [15].
В 1992 г. организованными группировками совершено 13% преступлений, в них принимало участие около 20 тыс. человек [16]. По результатам криминологических исследований свыше 90% группировок действовали в пределах областей, 33% – за пределами Беларуси, 23% имели межрегиональные связи. Почти половина исследуемых формирований располагала переносными рациями, радиотелефонами и радиостанциями малого радиуса действия. Каждая третья группа имела огнестрельное оружие, каждая вторая – холодное [17].
Серьезную обеспокоенность размахом преступности проявляет и общественность. По итогам опроса, проведенного в апреле 1992 г. Социологическим научно-исследовательским центром Белорусского госуниверситета, организованная преступность была названа второй по значимости причиной нынешнего экономического и политического кризиса в Беларуси [18].
По результатам исследований, проведенных в 1993 г. Институтом социологии АН РБ, 37,6% опрошенных граждан Беларуси указали, что реальная власть в государстве принадлежит мафии [19].
К сожалению, государственная отчетность не дает объективного представления о реальном уровне организованной преступности. Достаточно сказать, что, согласно статистическому отчету Министерства юстиции Республики Беларусь (форма № 11 "О лицах, осужденных за совершение преступлений"), за 1991 г. зарегистрировано лишь 5 преступлений, совершенных организованными группами, а в 1992 г. – всего 13 таких преступлений. Все это, как уже отмечалось, является результатом несовершенства методики подсчета этих видов уголовно наказуемых деяний. Видимо, нет нужды объяснять, что такое положение дел в сфере учета криминальных явлений не способствует выработке действенных мер, направленных на ограничение организованной преступности.
Некоторые (весьма приблизительные, разумеется) представления о динамике уголовных проявлений, совершенных организованными группами, можно составить на основании анализа статистических данных о преступлениях, совершенных группой лиц (табл.11). Можно предположить, что организованная преступность, несмотря на свои особенности, во многом имеет сходные черты с групповой деятельностью криминального характера.
Если принять за 100% групповую преступность 1981 г., то к 1992 г. она возросла в 2,1 раза. При этом нарастание абсолютных показателей происходило неравномерно: наиболее высокие зарегистрированы в 1984 г. – 5965 преступлений. Затем следует постепенное снижение до 4607 преступлений в 1987 г. Это объясняется результатами активизации борьбы с пьянством и алкоголизмом, последовавшей после известного Указа 1985 г. Начиная с 1987 г. уровень групповой преступности начинает резко возрастать. Это связано прежде всего с углублением кризисных явлений в социально-экономической и политической сферах, а также внедрением новых форм хозяйственных и экономических отношений, в том числе с началом приватизации государственной собственности, расширением экспортно-импортных операций, преобразованиями в области кредитно-финансовых отношений.
Что касается удельного веса групповой преступности в общем количестве зарегистрированных уголовно наказуемых деяний, то в целом он подвержен тем же изменениям, что и уровень групповых уголовных правонарушений. Начиная с 1987 г. наблюдается стабильное повышение этого показателя с 9,51% до 13,83% в 1992 г. При этом следует отметить, что темпы прироста доли групповой преступности в общей структуре всей зарегистрированной несколько ниже, чем темпы прироста групповой преступности в целом (см
. диагр. 10 и 11). Отчасти это можно объяснить тем, что создание групп занимает более длительный период, чем организация и совершение уголовных деликтов отдельными лицами. Видимо, ведущая тенденция в развитии организованной преступности будет во многом совпадать с процессами, характерными для групповой. Анализ цифровых данных ближайших 3–5 лет позволит проверить эти предположения и внести необходимые коррективы в долгосрочные криминологические прогнозы.Каковы же основные средства противодействия этому социальному злу?
Принимая во внимание особую опасность организованной преступности для общества, борьба с ней должна стать одним из важнейших направлений государственной политики. Это предполагает комплексный характер мер воздействия, включая социальные, экономические, правовые, идеологические, организационные и др. Видимо, есть смысл разработать и принять общенациональную концепцию с детальной проработкой подобных мер, обеспеченных материально-техническими ресурсами. К слову сказать, определенный опыт в этой области уже имеется [20].
Подобная работа должна проводиться в рамках судебно-правовой реформы, концепция котороя одобрена Верховным Советом Республики Беларусь [21].
Не вдаваясь в детальный анализ этого правового документа, хотелось бы обратить внимание на один спорный, на наш взгляд, момент. Речь идет об абзаце VII раздела, в котором рекомендуется задачу борьбы с организованной преступностью целиком возложить на Министерство внутренних дел, освободив от этих функций Комитет государственной безопасности. Данное положение не вполне согласуется с общепринятой мировой практикой. Известно, например, что только в США борьбой с организованной преступностью занимаются более десяти различных ведомств [22, с. 33–36]. Представляется, что подход, в основе которого лежит идея здоровой конкуренции спецподразделений и иных контролирующих государственных учреждений, более предпочтителен. Сказанное, разумеется, ни в коей мере не отрицает необходимость существования основного координирующего органа, на который непосредственно возлагается борьба с организованной преступностью.
Важным направлением государственной политики в этой области должно стать дальнейшее исследование проблемы коррупции, ее характера, причин, последствий, взаимосвязи с организованной преступностью. Следует разработать широкий комплекс мероприятий, существенно ограничивающих возможности для злоупотребления должностных лиц.
Давно назрела необходимость внесения соответствующих изменений в действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательства. Практика борьбы с организованной преступностью поставила вопрос о правовом урегулировании ответственности лидеров и авторитетов уголовной среды за их организационную деятельность, направленную на создание и финансирование криминальных сообществ, выработку стратегии и тактики отношения к властям и правоохранительным органам, проведению "сходок", осуществлению функций третейского суда, поддержанию традиций и норм поведения в преступном мире и т. п. В этой связи ряд ученых предлагает установить уголовную ответственность за организаторскую криминальную деятельность, руководство преступными формированиями и участие в них.
Следует, однако, заметить, что необходимость подобных новелл отдельные оппоненты оценивают довольно скептически. Они предлагают привлекать виновных к ответственности за непосредственную организацию конкретного преступления или любую доказанную форму пособничества (в том числе и интеллектуальную). Свою позицию эти оппоненты аргументируют ссылкой на опасность необоснованного расширения сферы действия уголовного закона и возрастающей в связи с этим возможностью злоупотреблений со стороны карающих органов. Последнее мнение, кстати, было поддержано некоторыми зарубежными участниками Международного семинара по борьбе с организованной преступностью, состоявшегося в конце 1991 г. в Суздале.
В области уголовного процесса все большее значение приобретает защита свидетелей и их родственников от насилия и запугивания. Следует нормативно урегулировать вопросы предоставления им охраняемого жилья, личной охраны, смены местожительства, выдачи новых документов на другое имя, оказания материальной и иной помощи. Необходимо также внести соответствующие дополнения в закон, позволяющие признавать в суде доказательства, добытые с помощью технических средств, кинопленки, видео- и магнитофонных записей.
В серьезных реформах нуждаются гражданское и финансовое право, сохраняется острая потребность в дальнейшем совершенствовании налогового законодательства, что отвечало бы современным экономическим реалиям. Безусловно, в ходе проведения этой работы следует максимально учесть опыт зарубежных государств, которые уже имеют национальные программы борьбы с организованной преступностью и соответствующее законодательство.
Учитывая рост организованной преступности во многих частях света, а также все более приобретаемый ею транснациональный характер, необходимо активней включаться в международное сотрудничество по борьбе с ней. Речь идет не только об участии в деятельности Интерпола, но и о заключении двусторонних договоров с различными странами о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам.
Правда, в последнее время сделан ряд серьезных шагов в этом направлении. 22 января 1993 г. на минской встрече глав государств и правительств стран СНГ подписана Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Подобные соглашения крайне необходимы и с другими странами, не входящими в Содружество.
Говоря о международном сотрудничестве, нельзя забывать и о важности объединения усилий правоохранительных органов в рамках территории государств-участниц СНГ. Условность границ между ними не препятствует консолидации уголовного мира на межотраслевой и межрегиональной основе, а ликвидация центрального руководящего органа в лице бывшего МВД СССР крайне отрицательно сказывается на борьбе с организованной преступностью. Интересы дела требуют создания единой межреспубликанской структуры, которая взяла бы на себя роль координатора деятельности оперативных служб и других заинтересованных ведомств. Отрадно, что определенные усилия в этой области уже предпринимаются. Как известно, 12 марта
1993 года Решением Совета глав правительств СНГ утверждена Программа совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества. В соответствии с указанной программой 6–7 апреля 1993 г. в Минске состоялось совещание экспертов по подготовке обоснований создания в рамках Содружества постоянно действующего органа (Бюро) по координации борьбы с организованной преступностью. Внесено предложение придать Бюро статус самостоятельного органа, подотчетного Совещанию министров внутренних дел стран СНГ. Среди основных задач, возложенных на новый орган, следует выделить:– формирование специализированного банка данных на базе компьютерного центра Бюро;
– содействие в осуществлении межгосударственного розыска участников преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования;
– обеспечение согласованных действий при проведении комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких государств-участников Содружества, выработке рекомендаций по борьбе с транснациональной преступностью.
Согласованный подход необходим и по некоторым вопросам конституционного характера, имеющим важное криминологическое значение. В первую очередь это касается разрешения свободной продажи огнестрельного оружия населению. Принятие подобных законов отдельными странами СНГ поставит в неравное положение граждан других государств Содружества и может привести к непредсказуемым последствиям. Думается, относительно таких
ответственных решений должен действовать единый правовой режим.С целью ограничения незаконного распространения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ среди гражданского населения следовало бы провести повсеместную инвентаризацию и комиссионную проверку состояния их сохранности и соблюдения правил транспортировки в частях вооруженных сил Содружества, пограничных и внутренних войсках, правоохранительных органах, министерствах, ведомствах, на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях.
В заключение хотелось бы отметить один существенный момент. Организованная преступность обладает исключительно дестабилизирующим воздействием на фундаментальные социальные, экономические и политические институты, представляет реальную угрозу правам личности и демократии. Вместе с тем было бы опасным заблуждением превращать борьбу с ней в очередную кампанию, а тем более ставить утопические цели по ее полному искоренению. На данном историческом этапе преступность является неизбежным побочным результатом общественного развития, имеющим универсальный, общечеловеческий характер. Поэтому главная задача должна состоять в удержании ее на социально терпимом уровне. Усиление ее организованности – процесс во многом закономерный. Для того, чтобы сохранять над ним контроль, следует
постоянно держать проблему организованной преступности в центре внимания общества, считая борьбу с этим опасным явлением приоритетным направлением государственной политики.Таблица 11
Динамика и удельный вес преступлений, совершенных группой лиц (1981–1992 гг.)
Год |
Общее количество зарегистрированных преступлений |
Количество преступлений, совершенных группой лиц |
% |
1981 |
46 464 |
5 514 |
11,86 |
1982 |
44 587 |
5 484 |
12,29 |
1983 |
54 811 |
5 913 |
10,93 |
1984 |
58 274 |
5 965 |
10,24 |
1985 |
58 272 |
5 856 |
10,05 |
1986 |
54 326 |
5 578 |
10,27 |
1987 |
48 457 |
4 607 |
9,51 |
1988 |
48 755 |
5 377 |
11,03 |
1989 |
66 499 |
7 720 |
11,61 |
1990 |
75 699 |
9 161 |
12,10 |
1991 |
81 346 |
10 559 |
12,98 |
1992 |
96 637 |
13 363 |
13,83 |
Диаграмма 10
Изменение уровня групповой преступности
Диаграмма 11
Изменение удельного веса групповой
преступности в общем количестве
зарегистрированных преступлений
(1981–1992 гг.),%